
Почерк Пушкина
Предыстория.
Меня заинтересовала личность Пушкина, его характер. Считается, что по почерку можно обо всем этом узнать. Что в принципе я и сделала и сейчас хочу рассказать об этом вам.
Формально можно сказать, что проблема пушкинского рисунка есть проблема пушкинского почерка. Пушкинская скоропись художественна в том же смысле, в каком художественны его рисунки. Автографы Пушкина зрительно вызывают чисто эстетическую реакцию, такую же, какую вызывают произведения искусства. Это нечто совсем другое, нежели “красивый почерк”, – им обладали многие; красивый почерк был у Лермонтова, у Тургенева, у Блока; красивый почерк понятие условное и, прежде всего внеэстетическое. Автографы Пушкина художественны, как художественны вязи арабских, персидских слов, выведенные искусными писцами. В них есть ощущение прекрасного расщепа пера, излучающего тончайшую цветовую влагу на белое поле листа. Почерк Пушкина по-восточному стремителен и целен. Это не отдельные буквы, условно соединённые между собой для образования слова, это единая, непрерывная графическая линия, образующая внутри себя символы для звуков, как река – волны, она формирует, связывает, катит буквы и шумит языками росчерков и концов, энергичных, жеманных, неокруглённых, прямо отводящих избыточную энергию письма в свободную плоскость страницы.
Языки росчерков – источник рождения пушкинского рисунка. Это мост между графикой его слова и графикой его образа. Росчерки, хвосты, концы заканчиваются арабеском (финалы ряда I автографов), арабеск завивается птицей (надпись “история села Горюхина”); птицы пронизываются очерками женских ножек (черновое начало “Осени”) и тому подобное. Это прием глубоко традиционный, коренной, свойственный самой природе скорописи в те времена, когда она была еще искусством, а не только средством закрепления речи. У Пушкина такова беловая заглавная надпись: “Стихотворения Александра Пушкина, 1817” – один из прекраснейших образцов подобного рода.
Почерк Пушкина определяется во многом самодовлеющим настроением момента. Временами это относительно спокойное письмо с достаточно ровными строками, равномерно распределенными нажимами, непринужденно, но тщательно выполненными рисунками букв, мимо исполнения, которых автор не мог пройти, не вложив в него блесток своей творческой фантазии и не разукрасив отдельных букв художественно затейливыми рисунками завитков и полудуг. Временами почерк Пушкина – это сплошной графический взрыв: резкие, сильные, густые и мазаные нажимы конечных штрихов букв, с силой, выброшенные вверх чернильными флагами, поднимающиеся штрихи букв (особенно характерно “д”), причем резко сделанные углы переплетаются с мягкими дуговыми линиями, как жестикуляция Пушкина всегда колебалась между мягкими, округлыми, мимическими движениями и броскими внезапными переходами от одного резкого жеста к другому. В этих же сильных и густых нажимах сказался весь его темперамент, склонность к сильным вспышкам гнева, даже моментами жестокости и позже известной озлобленности.
Быстрота почерка, способность к графическим комбинациям в связках элементов рисунка букв изумительна: кривые линии самых различных радиусов кривизны умещаются на незначительном пространстве, отличаются красотой и изяществом и гармонией: смелость отдельных начертаний – все это говорит о быстроте умственных процессов, способности необычайно быстро ориентироваться в окружающем, смелости полета мысли, общей одаренности, известном интеллектуальном кокетстве.
Почерк Пушкина имеет густые, сильные, отчетливые нажимы, но распределены они неравными по силе мазками, это указывает на неравномерность настроений, деятельности, порывистость, вспыльчивость, различные по силе вспышки энергии, обостренность нервной чувствительности.
Гласные буквы по преимуществу открыты, как открыты и мимические жесты автора, что должно указывать на откровенность и доверчивость натуры, о том же говорит и его, не снижающийся и ясный к концу рисунок слов, в противовес почерку людей, наделенных замкнутостью и хитростью, маскирующих заключительные буквы слов (высота уровня букв чаще всего постепенно снижается, и последняя буква этих слов обращается в сплошной штрих) подобно тому, как они при разговоре не высказывают своих глубоких “задних” мыслей. Щедрость, с которой Пушкин оставляет громадные поля, широкие интервалы между словами, несомненно, указывают на его непрактичность, отношение к деньгам и склонность к широкому размаху в личной жизни.
Если вглядеться в почерк с точки зрения художественной гармоничности исполнения рисунков букв пушкинского письма, то он как бы запечатлевает свою тонкость и художественность мысли великого поэта.
Подъемы и срывы линий и штрихов указывают на однородные явления в его психике. Этот человек способен и на сумасбродные поступки, особенно если затронуто при этом его болезненное самолюбие. Язык его тогда может сделаться весьма и весьма острым, автор умеет оборвать собеседника, не считаясь с положением человека и вредом, наносимом себе. На все это указывает целый ряд приведенных данных в его почерке: неровность нажима, открытость букв, ясность окончаний, то есть, в переводе на графологический язык, его неуравновешенность, порывистость, склонность открыто высказывать свои мнения, отсутствие расчетливости в отношениях, к этому следует прибавить уверенность в начертаниях, что говорит и об его уверенности в себе, о самооценке и отчасти славолюбии; этими штрихами Пушкин как бы подчеркивает свое “я”.
Многие из оставленных Пушкиным автографов заполнены рисунками, разбросанными на полях, между строк, даже поверх текста, что лишний раз убеждает в образности и конкретности его мышления.
Искание новых графических рисунков букв, добавлений к ним в виде завитков, дуг и тому подобное указывают и на творческие искания его мысли. В своих увлечениях Пушкин должен быть большим экспериментатором, проявляя в них часто больше любознательности, чем страстности.
В последних письмах Пушкина заметно озлобление, расстройство душевного равновесия. В переживаниях в силу нездорового самолюбия, отчасти ревности, вырабатывается замкнутость, мнительность, подозрительность. Все это видно из злоупотребления резкими нажимами пера и в силу того уже неровности и импульсивности их, срывов в рисунке линий строк и большой замкнутости гласных букв.
Постоянство горьковского письма у Пушкина нет, но это было бы несвойственно его живой и эмотивной натуре. Правда, в нем нет и патологических уклонов письма Достоевского и Соловьева, нет и невзрачности гоголевского письма. Это просто неуравновешенная, страстная, но и в основе здоровая натура, лишь затравленная окружающими условиями жизни и окружающими людьми, не способная выносить существующего насилия над личностью, но и не имеющая сил порвать со всем.
Знаки Зодиака в стихах А.С. Пушкина
“Мы стояли у подножия колоссальной находки, до предела неподготовленные и до предела самоуверенные.
Все мы тотчас, как муравьи, облепили эту гору со всех сторон – быстро, жадно, ловко и сноровисто.
Я был одним из многих. Это рассказ муравья”.
С. Лем “Голос неба”
В 1821 г. один французский путешественник-энтузиаст добирается до французского г. Дендеры и, потрясенный, открывает для себя Дендерский Зодиак. За огромные деньги он выкупает потолочный камень и с колоссальными трудностями привозит его во Францию.
С этого момента (1821 г.) Дендерский Зодиак оказывается в центре внимания европейской общественности, хотя пока только на уровне специалистов-востоковедов.
1832 г. В №6 “Телескопа” является первая русская публикация о Дендерском Зодиаке, в которой излагается история открытия феноменального памятника, а также приводится его общее описание. На публикацию откликается талантливый русский египтолог, оппонент знаменитого французского ученого Шамполиона в толковании иероглифики, И.А. Гульянов – друг Чаадаева и, через него, знакомый Пушкина. Через 2 года после упомянутых событий, имея возможность сосредоточиться в деревенском уединении, Пушкин создает свой поэтический отклик на Дендерское чудо.
1833 г. Болдино. Осень.
1.
ОВЕН
Октябрь уж наступил –
уж роща отряхает
Последние листы
с нагих своих ветвей,
Дохнул осенний хлад,
дорога промерзает,
Журча еще бежит за мельницей ручей,
Но пруд уже застыл
сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими
от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.
Овен, как видим, обозначен у Пушкина начальным “о” и окающей огласовкой первых 6 строк, перевиваемой задиристым “а” двух последних.
2.
ТЕЛЕЦ
Теперь моя пора, я не люблю весны,
Скучна мне оттепель, вонь, грязь –
весной я болен,
Кровь бродит, чувства, ум
тоскою стеснены.
Суровою зимой я более доволен,
Люблю ее снега, в присутствии Луны
Как легкий бег саней
с подругой быстр и волен.
Когда под соболем согрета и свежа,
Она вам руку жмет, пылая и дрожа!
Телец повторяет схему Овна – то же начальное “Т” (Те), разбросанное по всему полю октавы рассыпчатое “Телес” с цокающим конечным “с” – в ритме и музыке сердцебиения.
3.
БЛИЗНЕЦЫ
Как весело,
Обув железом острым ноги,
Скользить по зеркалу стоячих,
Резвых рек!
А зимних праздников
блестящие тревоги?..
Но надо знать и честь:
полгода снег да снег,
Ведь это, наконец, и жителю берлоги,
Медведю, надоест.
Нельзя же целый век
Кататься нам в санях
с Армидами младыми
Иль киснуть у печей
за стеклами двойными.
Близнецы полностью вмонтированы внутрь стиха, сложное сочетание звуков “бли” решено через “бле(ск)”, но опознавательным знаком является редкое “з”. Используется принцип парности – парочка в санях, коньки, двойные стекла.
4.
РАК
Ох, лето красное! Любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.
Ты, все душевные способности губя,
Нас мучишь, как поля,
мы страждем от засухи,
Лишь как бы напоить
да освежить себя –
Иной в нас мысли нет,
и жаль зимы старухи,
И, проводив ее блинами и вином,
Поминки ей творим
мороженным и льдом.
Рак подается Пушкиным через постоянный эпитет – “красный”, хотя в нем самое устойчивое – анаграмма первого слова. Кроме того, водяное животное Рак страдательно оставляется без живительной для него среды, что усиливает образную выразительность строфы.
5.
ЛЕВ
Дни поздней осени
бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно.
Так нелюбимое дитя в семье родной
К себе влечет.
Сказать вам откровенно,
Из годовых времен я рад лишь ей одной.
В ней много доброго,
Любовник не тщеславный,
Я нечто в ней нашел
Мечтою своенравной.
Для Льва привлекается традиционно связываемый с ним евангелист Марк. Устанавливается внутренняя связь между второй и пятой строфами. Обращает на себя внимание запретительное “ни” первой строки “дни осени”.
6.
ДЕВА
Как это объяснить? Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится.
На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота,
Без гнева.
Улыбка на устах увянувших видна,
Могильной пропасти
Она не слышит зева,
Играет на лице ее багровый цвет,
Она жива еще сегодня, завтра нет.
Дева заявлена без обиняков и впрямую. Хотя подавленный вздох от ее вида слышен во всех октавах стиха.
7.
ВЕСЫ
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса,
В их сенях ветра шум
И свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.
Легкое, серебристое созвездие Весов удостаивается ударной строки всего стихотворения, в котором принцип весов никто еще не замечал. А ведь так просто: с одной стороны (весов) “унылая пора”, а с другой – “очей очарованье”. И еще легкое колебание неустойчивой равновесности состояний.
8.
СКОРПИОН
И с каждой осенью я расцветаю вновь,
Здоровью моему
Полезен русский холод,
К привычкам бытия
Вновь чувствую любовь,
Чредой слетает сон,
Чредой находит голод,
Легко и радостно
Играет в сердце кровь,
Желания кипят –
Я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн –
Таков мой организм
(Извольте мне простить
ненужный прозаизм).
Скорпион (астрологически он же Орел) дан Пушкиным в восьмой строфе и семантически, и “скрипящей” инструментовкой.
9.
СТРЕЛЕЦ
Ведут ко мне коня,
В раздолии открытом,
Махая гривою, он всадника несет,
И звонко под его
Блистающим копытом
Звенит промерзлый дол
И трескается лед.
Но гаснет краткий день,
И в камельке забытом
Огонь опять горит –
То яркий свет лиет,
То тлеет медленно –
А я пред ним читаю
Иль думы долгие в душе моей питаю.
Стрелец в Дендерском Зодиаке представлен фигурой кентавра, стреляющего из лука в Скорпиона. Без пояснений понятно, что автор в соединении с конем образует кентавроподобное существо.
10.
КОЗЕРОГ
Я забываю мир – и в сладкой тишине
Я сладко усыплен
Моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется
Лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец
Свободным проявленьем –
И тут ко мне идет
Незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
По всем строфам пульсирует “кА” и “з” и “рой гостей” – “козероговость”.
11.
ВОДОЛЕЙ
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу,
Перо к бумаге,
Минута – и стихи свободно потекут.
Так дремлет, недвижим,
Корабль в недвижной влаге,
Но чу! Матросы вдруг кидаются,
Ползут
Вверх, вниз – и паруса надулись,
Ветра полны,
Громада двинулась и рассекает волны.
12.
РЫБЫ
Плывет. Куда ж нам плыть?..
Для последних 2-х строф комментарии излишни.
Дерево Перуна
Многим, наверное, памятно таинственное очарование начальных строк Пушкинской поэмы “Руслан и Людмила”:
У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том…
В “Сказке о царе Салтане” волны выносят царевича Гвидона с матерью на пустынный остров:
Видят холм
в широком поле,
Море синее кругом,
Дуб зеленый над холмом.
Дуб не случайно упоминается Пушкиным в его сказочных произведениях. В славянской мифологии этому дереву отводилось особое место. По представлению древних славян, жизнь на земле произошла от великого “мирового дерева”.
Фольклорист и этнограф XIX веко А.Н. Афанасьев в труде “Поэтические воззрения славян на природу” сообщал: “Предание о мировом дереве славяне по преимуществу относят к дубу”.
И как в древних легендах “мировое дерево” давало начало разнообразным формам растительной и животной жизни, так в сказочном повествовании Пушкина образ дуба открывает перед читателем путь в удивительный мир волшебных превращений.
В далекие дохристианские времена наши предки верили, что человеческая судьба зависит от того, как сориентируется человек в вечной борьбе, которую ведут на Земле Белобог и Чернобог, стихии добра и зла.
Пушкинскому Гвидону тоже пришлось делать свой выбор, когда перед ним развернулось противоборство светлых и темных сил, принявших образы белого лебедя и черного коршуна.
Гвидон без колебаний встает на защиту лебедя и за это получает достойную награду. Царевич поражает коршуна с помощью лука, сделанного из ветви того же заповедного дуба.
У многих народов дуб считался деревом, посвященным богу Громовнику: у древних греков – Зевсу, у римлян – Юпитеру, у словаков – Перону, у латышей – Перконсу, у руссов – Перуну.
Перун, по славянским сказаниям, был грозным гонителем темных сил, поэтому против лука, сделанного Гвидоном из Перунова дерева, бессильны злые чары.
Более того, сам образ Гвидона взят из распространенных в славянском фольклоре сказочных сюжетов, восходящих к мифам о юном Перуне-громовержце.
Афанасьев передает этот “часто повторяемый в народном эпосе рассказ: царица, посаженная в окованную железными обручами бочку и пущенная в море <…>, рождает в заключении сына-богатыря (Перуна), который растет не по дням, а не по часам, а по минутам, потягивается и разрывает бочку на части. Едва народившись, малютка Громовник уже является во всем могуществе своей разящей силы”.
Так в сказочных образах трансформировались представления древних людей о рождении молнии, с треском разрывающей тучу, – “небесную бочку”, плавающую по воздушному океану.
В сказке Пушкина эти образцы тоже сближаются: “Туча по небу идет, бочка по морю плывет”.
В Великом Новгороде долгое время сохранялся необычный обряд, идущий из глубины веков: весной, призывая на пашню благодатный грозовой дождь, новгородцы разбивали бочки.
В Никоновской летописи рассказывается, что только в середине XIV века Церкви удалось настоять на запрещении этих обрядовых игрищ: “Того же лета новгородцы, утвердившись между собою крестным целованием, чтоб им играния бесовского не любити и бочек не бити”.
Однако в народном мировосприятии новая христианская культура усваивалась, тесно переплетаясь с привычными, веками выношенными ведическими образами дохристианской поры.
Утром 20 июля (2 августа по новому стилю) русские землевладельцы с утра выжидающе поглядывали на небо. И заслышав громовые раскаты, благоговейно крестились: выехал Илья-пророк на своей золотой колеснице спасать мир от всякой нечисти.
В сущности, под Ильей-пророком в простонародном представлении подразумевался Перун-Громовник, праздник которого отмечался в этот день до принятия христианства.
Жертвенные дары приносили к капищам с изваяниями Перуна (если они были), но чаще всего – к дубам. Русские купцы, прибывшие в Византию во времена Константина Богрянородного, по свидетельству греков, совершали обряды жертвоприношений под большим древним дубом на острове святого Георгия.
Характерно, что в цикле Пушкина “Песни о Стеньке Разине” астраханский воевода, желая заполучить приглянувшуюся ему шубу атамана, с глумливой насмешкой пригрозил Разину, что в случае отказа дуб для Стеньки станет деревом суда:
Отдай, Стенька Разин,
Отдай с плеча шубу!
Отдашь, так спасибо;
Не отдашь – повешу.
Что во чистом поле
На зеленом дубе,
На зеленом дубе,
Да в собачьей шубе.
У славян и в прибалтийских землях дубовые рощи, воспринимавшиеся как первоприродные храмы Перуна, были неприкосновенны. Существовало поверье: если человек срубит дуб, то месть Перуна обрушится и на него, и на весь его род.
Интересна археологическая находка, сделанная в начале XX века: со дна реки Десны подняли дуб, в древесину которого в нескольких местах аккуратно были вставлены кабаньи клыки.
В 1945 г. такой же дуб обнаружили в Днепре. Без сомненья, это – священные Перуновы деревья со следами жертвенных даров. Но почему кабаньи клыки?
Возможно ответ дают славянские мифы. В них нередко силы тьмы, с которыми боролся громовник, принимали образ огромного вепря.
Отсюда возникла поговорка: “Бог не выдаст – свинья не съест”. Таким образом, кабаньи клыки, поднесенные в качестве жертвы Перунову дереву, символизировали всепобеждающую мощь грозного бога.
После принятия христианства священная сущность этого дерева не забывалась. В грамоте 1302 г. Галицкого князя Льва Даниловича в качестве опознавательного топографического знака упоминается Перунов дуб. В Запорожье бытовало придание, будто под древним дубом Богдан Хмельницкий принимал клятвенную присягу казаков, собиравшихся на борьбу с польской шляхтой.
В XIX веке русские сектанты, не признававшие официальную церковь и ее обряды, совершали бракосочетание, трижды обводя жениха и невесту вокруг дуба. А в Воронежской Губернии существовал обычай, согласно которому молодые, обвенчавшись в церкви, тут же направлялись на поклон к заветному дубу. Считалось, что иначе семья не будет крепкой.
У сербов жених, тайно похитив невесту у несговорчивой родни, просил священника повенчать их под дубом. Такой брак считался действительным и нерасторжимым.
В Ильин день во многих местностях крестьян по давней традиции приходили к окрестным дубам, принося с собой нехитрую снедь. Порой и священники, сами выходцы из народа, охотно участвовали в этих ритуальных трапезах и даже совершали под дубом праздничные молебны.
В “Духовном регламенте”, составленным в Петровскую эпоху, с осуждением говорилось, что иные “попы с народом молебствуют перед дубом, и ветви оного дуба поп народу раздает на благословение”.
В народе существовало присловье: “В Ильин день кошку из дома вон, а дубу отдай поклон”.
Крестьяне опасались, что перепуганная нечисть, прячась от огненных стрел воителя Громовника, может вселиться в домашнюю живность. Поэтому ее заранее выгоняли подальше, чтобы уберечь свое жилье от молнии. Особенно это касалось кошек, которых народ более других подозревал в сношениях с темными колдовскими силами.
Перуну (а впоследствии заменившему его Илье) приписывали и целительную силу, так как болезни считали следствием “порчи”, то есть воздействием темных сил.
Один из старинных заговоров, обегающий домашний скот, звучал так: “Перунова стрела, отшиби прочь от моей скотины злых духов”.
Исцеления нередко искали у тех же заповедных дубов. В качестве лекарства использовались то кора, то желуди.
В конце XVIII века в Пронском уезде под Рязанью особенно почитался старый дуб с большим сквозным отверстием. Уверяли, что если больного ребенка протащить через это отверстие, то болезнь непременно отступит.
Существовало также поверье: если во время первого весеннего грома прислониться к дубу – это даст человеку силу и здоровье.
Точно так же в древнем обиходе “столы дубовые”, часто упоминаемые в народных песнях и сказаниях, очевидно, ценились не только за свою прочность, но и за магические свойства, которые им приписывались.
А еще считалось, что земля, в которой произрастает много дубов, будет сильной и крепкой.
Как тут не пожалеть, что у нас с каждым годом все меньше становится дубрав, когда-то в старь сберегаемых как неприкосновенные святыни…
Список литературы, используемой при написании доклада.
1. А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 18. Москва 1996 г.
2. Тайны пушкинского слова. Москва 1999г.
3. Солнце нашей поэзии. Из современной Пушкеоны. Москва 1989 г.
4. И. Фейберг. Читая тетради Пушкина. Изд. “ Советский писатель ” 1985 г.
5. Е.Н. Колокольцев. А.С. Пушкин в портретах и иллюстрациях. Москва 1999 г.
6. М. Васина. В садах лицея. На берегах Невы. Ленинград 1988 г.
7. М. Д. Филин. О Пушкине и окрест поэта. Из архивных розысканий. Москва 1997 г.
8. И.И. Пущин. Записи о Пушкине. Москва 1937 г.
9. М. Руденская, С. Руденская. Пушкинский лицей. Очерк-путеводитель. Ленинградское издательство 1980 г.
10. A.M. Гуревич. Русская критика о Пушкине. Избранные статьи комментарии. Учебное пособие. Издательство Московского университета 1998г.
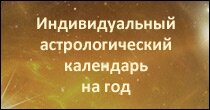
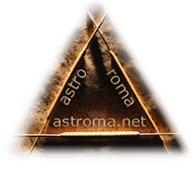

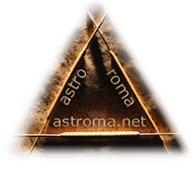

![]()